Рекомендуем прочесть
 85.313(3) М 91 Мураками, Х. (1949-). Джазовые портреты / Харуки Мураками ; [пер. с яп. Ивана Логачева] ; ил. Макото Вада. - Москва : Эксмо, 2005. - 236,[1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - (Мастера современной прозы).
85.313(3) М 91 Мураками, Х. (1949-). Джазовые портреты / Харуки Мураками ; [пер. с яп. Ивана Логачева] ; ил. Макото Вада. - Москва : Эксмо, 2005. - 236,[1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - (Мастера современной прозы).
У этой книги два автора – иллюстратор Макото Вада и писатель Харуки Мураками – заядлые слушатели джаза, разделяющие страсть к музыке и взгляды на неё.
Все началось в 1992 году с выставки картин японского художника Макото Вада «JAZZ», на которой были представлены портреты двадцати самых великих джазменов. Их увидел Харуки Мураками, тоже поклонник и знаток джаза. Один из самых популярных писателей мира, помимо своих романов и рассказов известен коллекцией из 40 000 джазовых пластинок. Мураками со студенческих лет и до начала творческой карьеры держал собственный джаз-бар.
Картины вдохновили Мураками, и он написал эссе к каждой работе художника. Первое издание книги «Джазовые портреты» вышло в 1997 году. В том же году состоялась новая выставка Мокато Вада «SING», в 1999-ом еще одна – «JAZZ-2». Пополнилась и коллекция портретов писателя. Их теперь 55 - 55 лирических историй о джазовых музыкантах и исполнителях.
«Если меня спросят, понял ли я что-нибудь из услышанного тем вечером, я отвечу, что пытался, но не смог – это оказалось слишком сложно», – таким было впечатление юного Мураками от первого джазового концерта. А было это в Кобэ в 1963 году на концерте ансамбля Арта Блейки «Jazz Messengers». «Пусть то, что я слышу сегодня, кажется мне непонятным, но это что-то определенно несет в себе потенциал для меня самого», – рассуждает Харуки Мураками.
Любовь к джазу «пробудили» бесподобные импровизации Стэна Гетца: «Играя яркую, полную бесконечного счастья музыку, Гетц настолько свободно владел тенор-саксофоном, что, глядя на него, любому становилось ясно: это от бога».
В коротеньких зарисовках Мураками не пытается говорить о музыке, а лишь представляет нам ее творцов и рассказывает о чувствах, которые она вызывает:
«До чего же искренне сыграно! Бикс вглядывается не в ноты и не в аудиторию, а слово бы ищет глазами душу, притаившуюся где-то в потемках жизни. Каких-то три минуты игры, а в них – вся вселенная»( Бикс Бейдербек);
«Наивный трепет чувственной души» (Джерри Маллиган);
«Дыхание юности» (Чет Бейкер);
«Дикое воображение, веселящая душу игра, пронзительный, словно крик души, звук… (Джулиан Кэннонбол Эддерли);
«Его на редкость богатую музыку можно сравнить с подземным ручьем, питающим бесплодную долину» (Дюк Эллингтон)
«Радость и спокойствие, естественность и свобода… Но прежде всего – «волшебное прикосновение», выворачивающее душу наизнанку» (Луи Армстронг).
Какой должна быть книга о музыке? Может быть, именно такой, наполненной любовью, искренней, лаконичной, с ненавязчивыми советами... «Джазовые портреты» – это лирические эссе, проникнутые тонким пониманием музыки. Это путеводитель в прекраснейший из музыкальных жанров для всех, кто любит джаз, и для тех, кому только предстоит узнать его лучше.
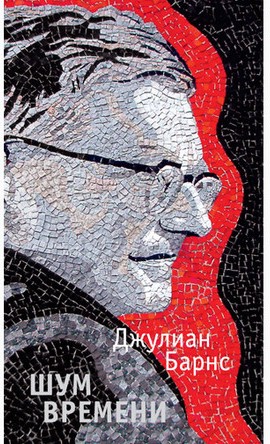 И Б 255 Барнс, Дж. (1946-). Шум времени : [роман] / Джулиан Барнс ; [пер. с англ. Елены Петровой]. - Москва : Иностранка, 2017.
И Б 255 Барнс, Дж. (1946-). Шум времени : [роман] / Джулиан Барнс ; [пер. с англ. Елены Петровой]. - Москва : Иностранка, 2017.
Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Великобритании, автор таких бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «Предчувствие конца», «Ничего не бояться» и многих других.
На этот раз писатель обращается к жизни Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Три главы книги – это три встречи с Дмитрием Шостаковичем в самые непростые моменты его жизни.
Первая происходит на лестничной площадке пятого этажа дома на Большой Пушкарской. 1936-й год. Ночью с чемоданчиком, в котором собраны все необходимые вещи, он стоит у лифта и ждет своего первого допроса. Воспоминания – как кадры кинопленки, из которых складывается целая картина жизни: строгая мать, первая любовь, жена и дочка… И размышления. Размышления о честности в жизни, честности в искусстве. Как они связаны и связаны ли вообще. И каковы у него запасы честности, и надолго ли этих запасов хватит? Понятно, что в Большой дом вызывают не для обсуждения вопросов музыковедения. Шостакович был уверен, что все кончено, и жизнь не принесет ничего, кроме пыток в НКВД.
Следующая встреча – в 1949 году. В самолете компании «Америкэн оверсиз», который летит из Нью-Йорка. Впечатления от поездки переплетаются с воспоминаниями. Опять как кадры кинопленки: жизнь с семьей в Куйбышеве, выступление на съезде Союза композиторов с обещанием писать музыку для народа, следуя указаниям партии, получение звания Почетного члена Тосканиниевского общества, мысли о самоубийстве... И размышления. Размышления о предательстве. «Спасая себя, можно спасти близких, любимых. А поскольку для спасения любимых человек готов сделать все, что угодно, он делает все возможное для спасения себя».
В третьей части романа уже немолодой Шостакович, сидя в персональном автомобиле рядом с водителем, задается вопросом: «Ленин считал музыку гнетущей. Сталин считал, что понимает и ценит музыку. Хрущев музыку презирал. Что для композитора хуже?»
«Что можно противопоставить шуму времени? Только ту музыку, которая у нас внутри, музыку нашего бытия, которая у некоторых преобразуется в настоящую музыку. Которая, при условии, что она сильна, подлинна и чиста, десятилетия спустя преобразуется в шепот истории».
Вот такой Шостакович у Барнса – живой, бесконечно талантливый и бесконечно одинокий.
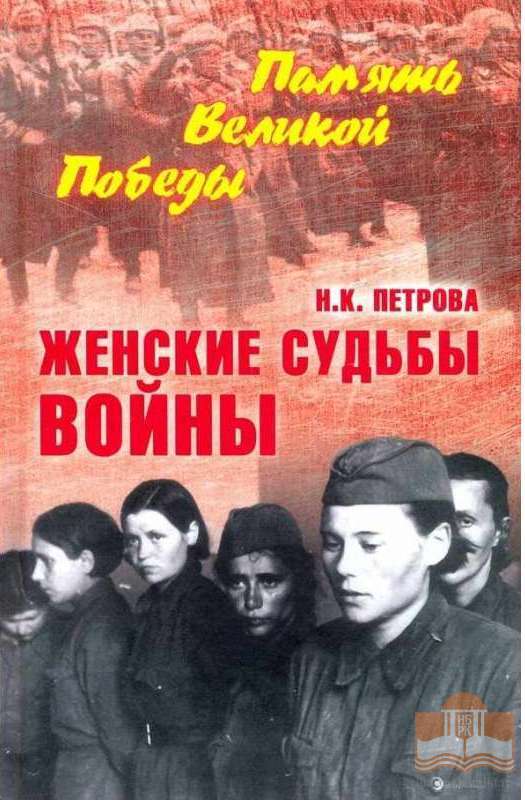 Б 63.3(2)622 П 305 Петрова, Н. К. (д-р ист. наук; 1937-). Женские судьбы войны / Нина Петрова. - Москва : Вече, 2019. - 413, [18] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Память Великой Победы).
Б 63.3(2)622 П 305 Петрова, Н. К. (д-р ист. наук; 1937-). Женские судьбы войны / Нина Петрова. - Москва : Вече, 2019. - 413, [18] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Память Великой Победы).
В 2019 году в серии «Память Великой Победы» вышла книга доктора исторических наук, военного историка Петровой Нины Константиновны «Женские судьбы войны». Это книга о женщинах, которые рядом с мужчинами с оружием в руках сражались с фашистами на полях Великой отечественной войны. Книга основана на архивных документах: приказах, письмах, свидетельствах очевидцев. События, которые в ней описаны, происходили на самом деле, в них участвовали реальные люди.
В разные периоды войны на фронте сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин, 80 тысяч из них были офицерами. Женщины, мобилизованные в действующую армию, замещали мужчин и назначались обычно на должности телефонистов, радистов, разведчиков-наблюдателей зенитной артиллерии, работников полевой почты, телефонных техников, делопроизводителей, чертежников, санитаров. Были среди солдат-женщин и летчики, и танкисты, и моряки, и снайперы.
В связи с напряженным положением на фронтах в 1942 году были проведены три самые масштабные мобилизации. 25 марта 100 000 девушек-комсомолок были направлены в части противовоздушной обороны, 15 апреля 30 000 женщин – в войска связи, 18 апреля 40 000 женщин – в Военно-воздушные силы. С мая 1942 года, в соответствии с постановлением Правительства, женщин стали призывать в Военно-морской флот.
Читая эту книгу, невольно погружаешься в то героическое время, в атмосферу всеобщего патриотического подъема, когда каждый считал своим долгом встать на защиту Родины. Вот заявление о мобилизации Людмилы Гарлинской: «Прошу зачислить меня добровольцем в Военно-морской флот. Я могу отлично выполнять обязанности советского воина… Пусть пуля, посланная моей рукой, сразит гитлеровского грабь-вояку, а палачи из армии Гитлера не досчитаются своего грабителя. В просьбе прошу не отказать».
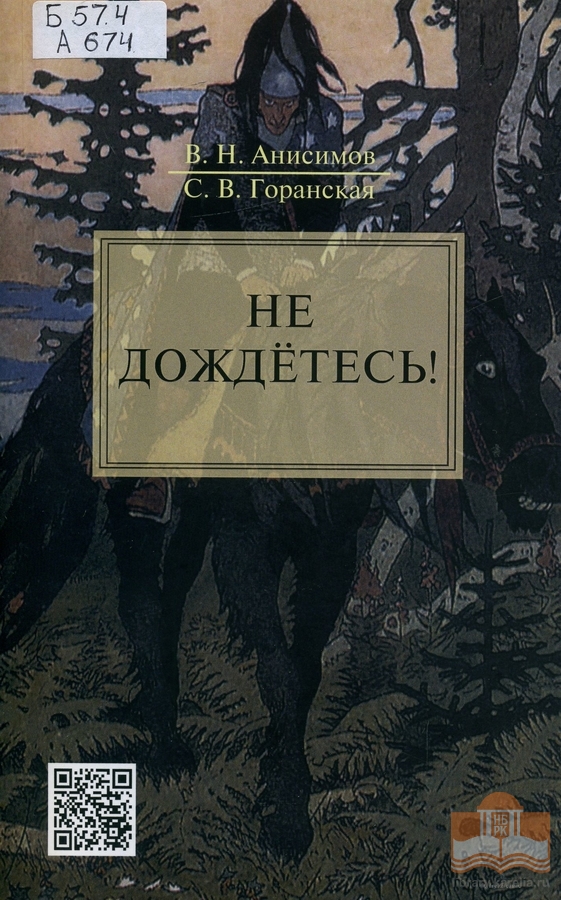 Анисимов В.Н.Не дождетесь! / В.Н.Анисимов. С.В.Горанская. - Москва; РГ-Пресс, 2016.- 336 с.
Анисимов В.Н.Не дождетесь! / В.Н.Анисимов. С.В.Горанская. - Москва; РГ-Пресс, 2016.- 336 с.
Составители сборника собрали более тысячи высказываний, афоризмов и стихотворений, посвященных волнующей каждого из нас теме возраста, старения, долголетия. Отдельные подборки – о причинах старения, времени наступления старости, психологии пожилых. Старость и труд, старость и технический прогресс, старость и красота, любовь, память, характер – все аспекты жизни пожилого человека в мудрой афористической форме. Что-то заставляет смеяться, что-то вызывает грусть.
Среди цитируемых авторов – писатели, поэты, философы, композиторы, ученые, государственные и исторические деятели. Одни известны многим, другие малоизвестны. Замечательно, что о каждом из них есть небольшая заметка в разделе «Сведения об авторах». Подготовили сборник член-корреспондент РАН, д.м.н., известный российский геронтолог В.Н.Анисимовов, а также постоянная наша читательница, к.м.н., доцент медицинского института ПетрГУ С. В. Горанская. Предваряет издание лозунг Международной ассоциации геронтологии и гериатрии «Пожилые не обуза, а ресурс!», с которым трудно не согласиться.
Рекомендуем каждому полистать книгу, ибо, как сказал американский кардинал Фрэнсис Спеллман, есть три возраста человека: молодость, средний возраст и «Вы сегодня чудесно выглядите!».
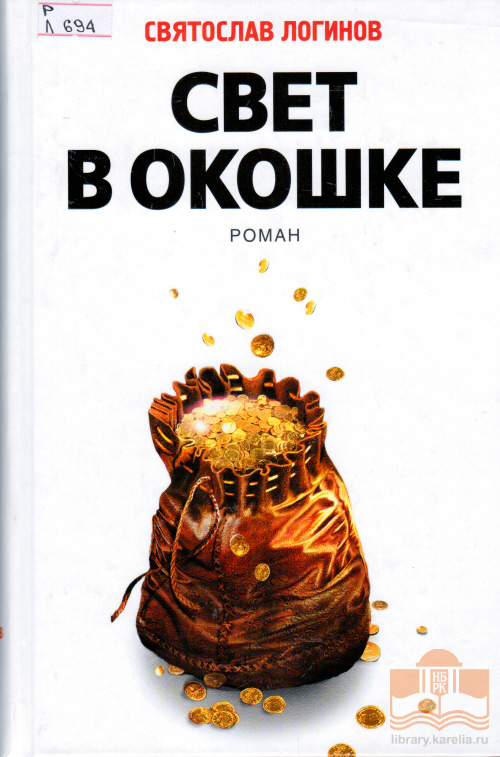 Логинов, С. В. (1951-). Свет в окошке : [роман] / Святослав Логинов. - Москва : Эксмо, 2009.
Логинов, С. В. (1951-). Свет в окошке : [роман] / Святослав Логинов. - Москва : Эксмо, 2009.
Что нас ждет после смерти? Актуальный вопрос для каждого из нас, особенно если перед телегой жизни замаячил последний поворот. Вымышленных построений загробного путешествия существует огромное количество, но Логинов предлагает самобытную версию того мира, в котором рано или поздно окажутся все без исключения. Перед прочтением романа приготовьтесь сдать в ломбард все ваши представления и фантазии по отношению к жизни после смерти.
Представьте себе: вы очутились в своеобразном месте, где главной ценностью и энергией выступает местная валюта «мнемоны», в основе которой лежат любые воспоминания живых людей о вас. Эти монеты даруют шанс материализовать все наши желания и потребности, и чем чаще вас вспоминают живые люди, тем прочнее ваше положение в потустороннем мире. Не имеет значения, хорошим вы были человеком или нет, места для привычных понятий «рай» и «ад» в пространстве романа не осталось. Стоит помнить лишь о том, что забвение о человеке сродно смерти, но уже в ее окончательной и бесповоротной форме.
В центре внимания автора – человеческая память, включающая в себя не только воспоминания о людях, которых мы встречаем на нашем жизненном пути, но и прошлое предков, их традиции, наследие и ценности. Знание и уважение истории – это и есть «свет в окошке», то необходимое утешение, к которому тянутся герои романа. Для Логинова наследие человеческого опыта – это не пустой звук, а важнейший духовный капитал, к которому большинство относятся с известной долей пренебрежения.
Необыкновенный мир Святослава Логинова может испугать и удивить, но в первую очередь тем, что читатель ощущает собственную ответственность за тех людей, которые живут лишь до тех пор, пока мы помним о них.




